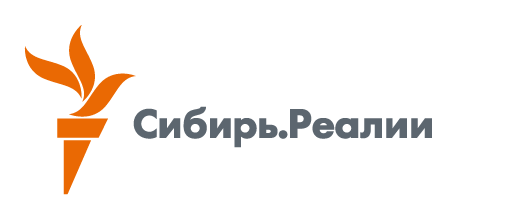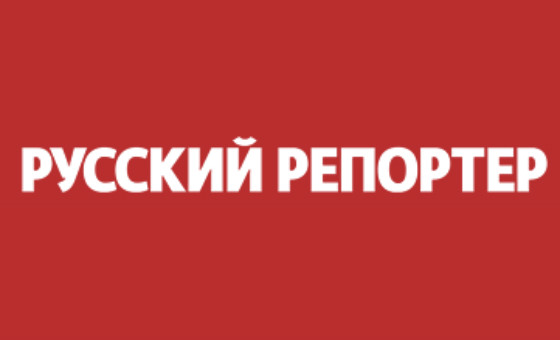Сначала — о чем речь, в каком смысле у нас — исторический минимум заключенных? С какого времени? Скорее всего, с 1935 года (с этой оценкой согласился известнейший криминолог Виктор Лунеев), то есть почти все время, пока существует государство современного индустриального типа! (см. историческую справку).
И уж абсолютно точно, что это рекорд всей «новой России»: с 1990 года, еще в СССР, начался рост преступности и тюремного населения, а с 1996 по 2000 годы держался пик преступлений и наказаний, «ГУЛАГ нового образца» — в эти годы заключенных было большое миллиона человек, а коэффициент судимости превышал 700 заключенных на 100 тысяч населения. Мы порой догоняли и почти обгоняли США, бессменного лидера по уровню репрессий среди развитых стран.
С 2001 года началось снижение уровня государственных наказаний с некоторым всплеском осуждения с 2004 года, что было, вероятно, связано с усилением силовой вертикали; это период роста ресурсов полиции, что дополнилось новыми сроками в принятом в начале 2000-х, казалось бы, либеральным Уголовным кодексом. С 2008 года все время — падение. И оно продолжается. Причем падает и уровень преступлений, прежде всего насильственных.
— В 2006 году у нас уровень преступности в расчете на сто тысяч населения был около 2700. А в 2016-м — 1474, снижение почти в два раза, а по тяжким преступлениям еще больше, — говорит известный криминолог Яков Гилинский. — Уровень убийств в 2001 году был 23, это очень высокий уровень, а в 2016-м — 7,1. Снижение уровня убийств более чем в три раза! То же самое с разбойными нападениями, с грабежами, с изнасилованиями!
Но при этом он, как большинство коллег-криминологов не испытывает восторга по поводу прогресса в изучаемой ими области. Дело не в России, это общемировая тенденция, настаивает профессор Гилинский.
У нас давно не было такой сложной аналитической работы, нам приходилось продираться через непонимание и туман к ответам на главный вопрос: «Почему у нас снижается количество преступлений и наказаний и как закрепить позитивный тренд». Почти никто не разделял нашего удивления, великие эксперты осторожничали, давали понять, что загадки нет, обычный мировой тренд, государство, в общем, ни при чем.
Это понятно. Несмотря на прогресс, у нас все еще очень плохая статистика преступлений и наказаний, если сравнивать со странами ЕС и особенно со странами Северной Европы: мы понимаем, что заключенных у нас могло бы быть меньше в 5-10 раз, а убийств — в раза два-три. Поэтому эксперты и не спешат радоваться.
Кроме того, никем не признается, но, вероятно, есть еще и политический контекст темы. Прогрессивная часть общества все историческое время боролась с государством за либерализацию законов и тюрем. Но снижение количества зэков в перестройку сменилось катастрофой 90-х. Свободная постсоветская Россия сажала больше людей в тюрьмы, чем СССР в его наиболее вегетарианские периоды. И наоборот «авторитарный путинский режим», оказывается, освободил больше заключенных, чем когда-либо.
Нет ответа
Все лучшие отечественные эксперты по теме говорят: ничего особенного в стране не происходит, все как везде.
— Статистический факт состоит в том, что с начала XXI века преступность во всем мире падает, — президент Санкт-Петербургского международного криминологического клуба Дмитрий Шестаков называет это фактором неожиданного каприза насилия.
— Насилие имеет тенденцию к постоянному возрастанию, — замечает он, — а в последние два десятилетия постоянно снижалось.
«Тенденцию к постоянному возрастанию» насилие показывало всю вторую половину XX века — хотя в 70-80-х западный мир переживал экономический расцвет и благосостояние общества росло. Почему так происходит? Нет ответа.
— Преступность — явление социальное. Она развивается по волновым законам. Как экономика, — говорит Яков Гилинский.
— Количество преступлений по неизвестным причинам претерпевает колебания, это общие мировые тенденции, — говорит Дмитрий Шестаков. —Наказание никак не влияет на это.
То есть первый вариант ответа: причины неизвестны или вступили в силу какие-то неописанные социальные циклы. Действительно, социальные и демографические процессы во всем развитом мире синхронизированы войнами, урбанизациями, социальными революциями и ведут себя часто удивительно и непредсказуемо. Но мы решили, что не можем удовлетвориться столь абстрактным соображением. Хотя бы потому, что оно не дает ответа на вопрос, что делать, чтобы позитивные тенденции продолжились.
Да, во всех развитых странах падает преступность и количество заключенных, но очень разными темпами.
— Преступность падает из-за того, что за последние годы коренным образом изменилась структура общества, причем эти тренды носят глобальный характер, — объясняет руководитель Института проблем современного общества Ольга Киюцина. — Общество в целом стало более богатым, политологи говорят о том, что потребление калорий в среднем на душу населения никогда не было столь велико в истории человечества. Пропала необходимость убивать за кусок хлеба, грабить, чтобы прокормить семью. Практически любой может найти себе место в жизни и получить пропитание и крышу над головой. Поэтому очень существенно снизилась насильственная преступность, такие преступления все чаще совершаются по глупости или неосторожности.
В США и России еще в 2000 году был примерно одинаковый уровень государственного насилия: порядка 700 заключенных на душу населения. В США несколько снизился и стал порядка 650, а у нас — порядка 400. Разница грандиозна, у нас более позитивная динамика, чем в США. Но в Казахстане и Белоруссии еще более позитивные тенденции, а на Украине, расколотой войной, количество заключенных снизилось вообще в два раза!
Не только уровень социального благополучия и богатства, но и законы — уровень наказания, и вообще политика стран очень сильно влияет и на преступления и на количество заключенных. Так в ряде штатов США только что была легализована марихуана, очевидно, и это может привести к снижению заключенных по наркотическим статьям. На Украине прошла массовая амнистия, в том числе благодаря закону Савченко, часть заключенных были отпущены на фронт, часть остались по ту сторону линии фронта, заключенных стало меньше. Но уровень преступлений вырос минимум в два раза за 2014 и 2015 годы, особенно по убийствам и преступлением с применением оружия, и начал несколько снижаться в 2016 году. Это тоже общие мировые циклы или конкретная война и разруха?
И Дмитрий Шестаков, и Яков Гилинский, и Ольга Киюцина как одну из причин повсеместного снижения преступности называют уход молодежи в интернет.
— Виртуальное насилие отвлекает от реального, — замечает Шестаков.
— Больше всего потребность в самоутверждении у подростков и молодежи, — объясняет Гилинский. — А возможности, наоборот, самые маленькие. Поэтому неудивительно, что подростки и молодежь самоутверждаются через насилие. А то, что это сейчас из реального мира перешло в интернет, — ну так это замечательно!
Ольга Киюцина добавляет к интернет-фактору спорт и ролевые игры в реальном мире: почти каждый может найти себе занятие по средствам и по душе, объясняет она. Дмитрий Шестаков настаивает еще на одной причине: насилие переносится еще и в вооруженные конфликты за границами (по крайней мере, в России и США, уточняет профессор).
На криминологической конференции в Германии в прошлом году американские ученые представили результаты своего исследования, согласно которому преступность на улицах города снижается на 2%, когда на рынке компьютерных игр появляются новые стрелялки. Правда, уточнили они, это только в том случае, если стрелялки выходят вместе с другими играми. А вот если количество стрелялок удвоить, а других игр не продавать, все будет наоборот.
Это очень забавно, и в Западной Европе, где уровень насилия очень мал, это полезно обсуждать. Но у нас уровень подросткового насилия не объяснить интернетом. Количество несовершеннолетних в колониях снизилось с 25 тысяч в 1998 году до 1700 в 2016-м – более чем в двадцать раз. Подростковая преступность за это же время – в три раза. Очевидно, что и общество стало здоровее, и произошла либерализация государственного насилия: подростков перестали массово сажать, с ними пытаются работать.
И это залог уменьшения преступлений завтра: подросток, еще ребенок, который попал на зону, выйдет оттуда взрослым преступником с криминальными связями и искалеченным сознанием. То, что несовершеннолетние стали реже туда попадать, — победа правозащитников, социальных работников и государства, которые, впрочем, почему-то об этом почти не говорят.
Авторы прогресса
При первой же встрече криминолог Яков Гилинский сообщает парадокс:
— Преступлений как таковых не существует.
И сразу после этого – парадокс номер два:
— Никакое наказание никогда не выполняет своих функций.
Это не просто парадоксы, а краеугольные камни, которые лежат в основе современной криминологии. Яков Гилинский дружил с другим известнейшим криминологом, которого как-то называли гуру даже заключенные, — Нильсом Кристи (см. интервью с ним в «РР» № 18(196) от 11 мая 2011 года). Нильс Кристи знал и любил Россию.
— Я заявляю, что преступления не существует, или же можно сказать, что все является преступлением, — он говорил то же самое.
Дело было на лекции в культовом московском кафе Bilingua в 2005 году.
— Преступление — это понятие, которое очень легко уводит нас от реальности того, что происходит, — продолжал Нильс Кристи. — Но что следует сделать, посмотреть… является ли единственным выходом запереть человека в тюрьму.
Нильс Кристи — один из ключевых теоретиков и практиков резкого снижения преступлений и количества зэков в Северной Европе после второй мировой. Когда-то в Финляндии было примерно столько же преступлений и наказаний на душу населения, сколько и у нас (мы происходим из одной империи и близки культурно), а сейчас почти в десять раз меньше. И этого добился Нильс Кристи и его единомышленники в университетах, правозащите и в правительствах стран.
Нильс Кристи, сначала теоретически, а потом и на практике, в Северной Европы, показал, что количеством преступлений и вообще насилия в обществе можно управлять: с ростом полицейских наказаний сначала преступность снижается (преступник боится наказания), а потом начинает расти (государственное наказание порождает новых преступников). Преступления будут всегда, но государства могут прийти к оптимальному балансу преступлений и наказаний, минимуму и того, и другого, снижая собственное насилие, снижая отчуждение между людьми (когда они не стреляют и не вызывают полицию, а скорее склонны договориться), проводя социальную политику.
В последние 16 лет преступность в России все время снижалась, однако количество заключенных не снижалось автоматически. В тот самый приезд в Россию в 2006-м Нильс Кристи сожалел об этом и надеялся, что в следующий приезд застанет другую картину.
— И вы, может быть, расскажете, как вам удалось снизить число заключенных, — сказал он напоследок своим слушателям и оппонентам. — Поскольку абсолютное большинство тех, кто сидит сейчас в российских тюрьмах, — это бедные, несчастные люди, очень многого лишенные в жизни.
Нильса Кристи не стало два года назад. Но кажется, теперь нам есть, о чем ему рассказать.
Святой арестант
37 лет назад в Москве осудили на три года колонии одного человека. Он обвинялся в «распространении клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй» (статья 190-1 УК РСФСР). Этим человеком был Валерий Федорович Абрамкин, и ему суждено было изменить отношение к заключенным в нашей стране.
Вряд ли он мечтал именно об этом. Учился в МХТИ, работал научным сотрудником, писал песни и участвовал в самиздате, чем и навлек на себя статью. Отбывал срок в колонии на Алтае. Заболел туберкулезом. Когда подходил к концу три года, ему дали еще три. Эти шесть лет подорвали его здоровье.
Когда он вернулся в Москву, в стране шла перестройка. Он создал организацию «Тюрьма и воля», позже — Центр содействия реформе уголовного правосудия и положил жизнь на то, чтобы изменить положение в тюрьмах.
— Сейчас существует обширное гражданское движение по защите прав заключенных, — говорит Людмила Альперн, в течение 15-ти лет работавшая заместителем директора центра. — Люди стремятся попасть в общественные наблюдательные комиссии (ОНК), которые созданы практически в каждом регионе. Люди готовы делать это страстно и бесплатно. Без Валерия Абрамкина не было бы такого движения. Как и закона об общественном контроле. Он сумел проникнуть в сердца совершенно разных людей.
Валерий Абрамкин дружил с Нильсом Кристи, пропагандировал и развивал его теории, но главное — боролся. Он говорил в средине 2000-х, когда количество зэков вновь начало расти:
— Я парадоксальную вещь для правозащитника скажу. Сажать надо больше! Наказание преступления должно быть неотвратимым. Безнаказанность развращает. Но сроки должны быть меньше! У нас же срока огромные! А за некоторые проступки и вообще сажать не надо.
Он призвал «вернуть тюрьмы народу», в том смысле, что народ должен знать, что если посадить соседа в тюрьму за пьяную драку или кражу, он не исчезнет навсегда, а вернется матерым преступником. И что дешевле и справедливее ему помочь, а не упечь. Функция тюрем по-русски, говорил Абрамкин, это не изоляция и не месть, а «острастка и вразумление».
— У него было такое качество как милосердие, — продолжает Людмила Альперн. — И в этом смысле он себя, видимо, отождествлял с таким известным лицом в истории российской тюрьмы, как «святой доктор» Гааз. Это своего рода самородок, драгоценный человек, который смог повлиять на умы и на судьбы.
Валерий Федорович не дожил до сегодняшнего дня, но все же его линия в криминалистике и в вопросе о гуманизации тюрем продолжается.
Почему снижается количество зэков
Сократился средний срок заключения, как и настаивал Валерий Абрамкин. В середине 2000-х он составлял 8 лет. Сейчас — примерно 5 лет (а по расчетам Института проблем современного общества – даже три года). Здесь главный ответ на вопрос о том, почему снижается количество заключенных.
Гуманизация законодательства в течение более чем 10 лет — осознанная политика властей. Весной 2010 года президент Медведев внес в Госдуму пакет законопроектов, серьезно смягчавших Уголовный кодекс и включавший мораторий на аресты за экономические преступления. Осенью того же года, во втором пакете, предлагалось отменить нижний предел наказания за нетяжкие преступления. В 2011-м Дмитрий Медведев подготовил третий пакет, который называли революционным. Он запрещал сажать в тюрьму тех, кто впервые совершил нетяжкое преступление без отягчающих обстоятельств. На время с 2008 по 2012 годы пришлось стремительное снижение числа заключенных, — на 175 тысяч.
В 2015 году Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, предложил перевести в Административный кодекс преступления, не представляющие большой общественной опасности. Пакет правок, внесенный в Думу Верховным судом, декриминализировал побои в семье, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда, злостное уклонение от уплаты алиментов и использование заведомо подложных документов. Из-за статьи о домашнем насилии общество очень возмущалось. Спорить есть о чем, но почти никто не обсуждает сам тренд на смягчение уголовных наказаний, то есть самое главное.
На публичных лекциях Нильса Кристи и Валерия Абрамкина в Москве возникал принципиальный спор с представителями прокуратуры и силовых ведомств. Силовики считают, что строгость наказаний — залог безопасности, что наказывать надо еще строже и что огромное количество зэков в стране — это результат высокой преступности, а не репрессивной атмосферы и уровня государственного насилия в стране.
Большинство граждан России, которые не интересуются современными криминологическими теориями, согласятся с силовиками: «Вор должен сидеть в тюрьме». Но «срока огромные», как доказывали Кристи и Абрамкин, не увеличивают безопасность, а уменьшают: такие люди после них уже не боятся тюрьмы, они не знают, как жить на воле, и совершают преступления повторно. Ругая осторожные, но реальные изменения к лучшему, общественность солидаризуется с силовиками, тормозит перемены.
Один из непубличных авторов либерализации правосудия — министерство юстиции (его с 2008 года возглавляет Александр Коновалов, см. интервью с ним в «РР» № 15 (193) от 19 апреля 2011 года). Минюст, отвечая на запрос РР, объяснило снижение количества заключенных тем, что шире стали применяться наказания, не связанные с изоляцией от общества: обязательные работы, штрафы, лишение права занимать определенные должности, исправительные работы и ограничение свободы.
Система вывода из-под уголовной ответственности за мелкие проступки заработала в прошлом году: она и позволила заменять уголовное наказание на штраф, пересматривать и отменять приговоры. А исправительные работы появились только в этом году. Это альтернатива тюрьме, и их назначают за преступление небольшой или средней тяжести, или за тяжкое преступление, если оно совершено впервые.
Исправительные центры похожи на обычные общежития, и порядки в них мягче. Осужденные выходят на работу в город, а отбыв треть срока, могут поселиться за пределами центра с семьей. Пока таких центров несколько штук на всю страну.
Либерализацию законодательства эксперты считают совершенно недостаточной. Они абсолютно правы: по сравнению со странами Северной Европы, самыми прогрессивными в этой сфере, у нас все ужасно. В наших тюрьмах стало меньше женщин, но это все еще чересчур много по европейским меркам. Средний срок заключения снизился, но все еще далек от среднего европейского — 1 года и 8 месяцев.
Но все же это движение в верном направлении.
Контртренд: народная статья
С уровнем преступлений можно сравнить уровень заключенных. В 2006 году чаще всего сажали за кражи. Сегодня осужденных за кражи в два раза меньше. Хулиганство, разбой, убийства — по всем статьям произошло снижение, в два-два с половиной раза.
Совсем другая картина по статьям 228-233 – это преступления, связанные с наркотиками. Если в 2006 году за наркотики сидели 65 тысяч человек, то сегодня – приближается к 140 тысячам.
Можно было бы списать на то, что сейчас сроки по этим статьям досиживают сроки осужденные ранее. Так бывает с насильственными преступлениями: обвинительных приговоров по ним все меньше — высокий уровень тюремного населения поддерживают те, кто сел 5-7 лет назад. Но с наркотиками дело обстоит ровно наоборот. Сейчас это единственная категория, в которой одновременно растет и количество приговоров.
Наркотики стали сегодня поистине «народной» статьей. 26-летний житель города Набережные Челны Евгений Веретенников этой весной отправился в исправительную колонию строгого режима на 7,5 лет. Он никого не убил и не ограбил банк, он вместе с друзьями поехал в Питер и купил через интернет легкие наркотики. Употребление не преступление — но в реальности даже небольшие дозы приводят обычных людей в тюрьму, а силовикам помогают «выполнить план».
Когда Евгений Веретенников и его друзья попали в разработку Наркоконтроля, всем им было немного за 20 и они были домашними мальчиками. Но в деле их описали как «преступное сообщество» и довели до тюрьмы. Уходя на последний суд, Евгений описал свою историю на cобственном сайте nasvobode.com .
«Ну, сами же всё понимаете, надо сажать, работать же надо как-то, — прокурор продолжал улыбаться. — Ну, не стреляют если [не убивают — РР], что поделать! Мы любим 228-ю статью. Как и 210-ю».
«Я четко понял, — пишет Евгений Веретенников, — что правоохранительная и судебная структура — это большой бизнес со своими правилами и порядками. Наркоманы являются основой этого бизнеса, прокурор это подтверждает. И этот человек обвиняет меня в «причинении вреда общественной нравственности».
Судя по всему, стало понятно, что рост наказаний по наркотическим статьям — уже не борьба с оборотом наркотиков, наркобаронами или криминальным бизнесом, это преследование обычных людей. И это уже противоречит безопасности страны: если план сотрудникам Госнаркоконтроля можно выполнить, арестовав с марихуаной безобидного подростка, то настоящие преступники, распространители спайсов и тяжелых наркотиков, наркомафия – могут спать спокойно.
Вероятно, в этом и причина того, что Госнаркоконтроль был недавно упразднен. Но его функции, большинство сотрудников и методы работы переданы МВД, так что будущее неизвестно.
Политические статьи: мало, но громко
Есть еще несколько уголовных статей, которые противоречат тренду на снижение преступлений и наказаний. Особым внимание прокуратуры в последние годы стали пользоваться статьи 280 и 282 — за призывы к экстремизму и разжигание ненависти. И хотя на общем фоне экстремистские статьи теряются — всего 661 случай за последний год, но есть пятикратный рост, да и дела это чаще всего громкие, а громкие дела задают моду — либо на гуманизацию, либо на репрессии.
— За последнее десятилетие очень расцвела тема злоупотребления антиэкстремистским законодательством. Это как раз то законодательство, которое должно было бы использоваться во благо, — говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. —Если пять лет назад деятельность по противодействию экстремизму это была, в основном, деятельность по привлечению к уголовной ответственности за серьезные насильственные преступления, то сейчас это, в основном, привлечение к уголовной ответственности за репост «Вконтакте».
Совсем недавно в Екатеринбурге по 282 статье условно осудили блогера Руслана Соколовского за высказывания на youtube-канале. В Новосибирской области в прошлом году дали год и 3 месяца колонии-поселения Максиму Кормелицкому за репост картинки с крещенскими купаниями и оскорбительной подписью. Мусульманку Эльвиру Султанахметову приговорили к 120 часам исправительных работ за то, что на своей странице «Вконтакте» она назвала отмечающих Новый год «гнусными язычниками» и призвала игнорировать праздник.
Кстати, есть и третий контртренд — уже несколько лет с растущим энтузиазмом сажают за коррупцию и взятки. И это уже массовое явление. В чиновничьей среде шушукаются, что трудно становится найти кандидатов на должности губернаторов и тем более мэров — большой риск тюрьмы.
Что это все значит? Да то, о чем говорили в самом начале: преступления нет — есть отношение государства и общества. Что мы готовы прощать, а что – нет. Какие проблемы хотим решать социально, а какие — насилием.
— Существует уголовная политика, которая выхватывает какие-то виды преступлений, в какой-то период считая их более актуальными, — объясняет Людмила Альперн.
— Многие деяния, которые еще пять лет назад не были преступлениями, криминализируются, и наоборот, происходит декриминализация некоторых деяний, — говорит правозащитник и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Андрей Бабушкин.
Эти выводы подтверждают даже официальные сообщения Генеральной прокуратуры: в 2016 году зафиксировано снижение преступности на 9,6 процентов, с 2,3 миллиона случаев до 2,1 миллионов. «Такое значительное снижение зарегистрированных преступлений объясняется вступлением в силу федерального закона, направленного на декриминализацию отдельных составов преступлений», — комментировал официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
Но ведь разница между «2,1» и «2,3» миллиона — это целый город, двести тысяч человек.
Декриминализация экономики
Эту проблему глубоко исследовал Институт проблем современного общества. По его данным, с 2004-го по 2014 год уровень преступности в России снизился на 38%, а число заключенных за то же время — на 18%. «То, что число заключенных не сокращается пропорционально снижению преступности, свидетельствует о диспропорциях в работе судебной и тюремной системы», заключают специалисты института.
В 2000-м году в тюрьмах было 30 тысяч бизнесменов, а сегодня — 10 тысяч. Что тоже плохо, но уже в три раза лучше.
— Большинство из них могли обойтись другим приговором, — говорит сопредседатель центра «Бизнес против коррупции» Андрей Назаров. — Это было бы полезнее для государства. Ведь после тюрьмы бизнеса у человека уже нет, работы нет, и государство должно платить ему пособие по безработице.
Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» — экспертная площадка при бизнес-омбудсмене Борисе Титове. За шесть лет сюда за помощью обратились больше тысячи человек. В центре говорят, что приговоры, не связанные с лишением свободы, стали выносить чаще. Но уголовных дел по экономическим статьям тоже стало больше: в 2016-м следователи завели почти 260 тысяч дел против 235 тысяч – в 2015 году. Счастье в том, что до суда из этих дел доходит где-то 15 процентов. Однако это значит, что дела заводят в несколько раз чаще, чем стоило бы.
— По экономическим статьям в тюрьму часто попадают люди, которые вообще не должны попадать под уголовную ответственность, — говорит Назаров. — Их спор должен решаться в арбитражном суде. Но, к сожалению, есть примеры, когда вместо арбитража начинается уголовное преследование.
Опасность экономических преступлений для общества ниже, ущерб можно возместить, заплатив штраф. Кроме того, как «мошенники» часто сидят предприниматели, которые не успели выполнить обязательства. Иногда уголовное преследование начинают после решения арбитражного суда в пользу предпринимателя. А порой бухгалтера, юриста и других сотрудников компании в организации преступного сообщества. Уголовное дело парализует работу любой компании, даже когда вина не доказана. По статистике бизнес-омбудсмена, 70 процентов компаний после этого не выживают.
В июле 2016-го нотариусов наконец-то пустили в СИЗО. С этого момента стало не так просто захватить компании, чьи владельцы находятся под стражей.
Что надо менять
Количество оправдательных приговоров уменьшается, стремясь к нулю. В 2014 году их и так был всего 1 процент. Но в 2016-м новый абсолютный минимум — оправданы всего 0,37% обвиняемых. В Верховном Суде и прокуратуре парируют: у нас иная система, множество дела просто закрывается на первой стадии, там, где мало доказательств вины, дело просто не доходит в суд. Это отчасти так, но зачем тогда грандиозная судебная система, если она все время предпочитает принимать точку зрения следствия и обвинения? Практика такова, что если состава преступления не обнаружится уже в суде, судья, скорее всего, вынесет компромиссный приговор: «виноват в меру, но свое уже отсидел» — и наказание приравняют к отбытому в СИЗО.
Арбитражные и гражданские суды очень соревновательны и интересны, а уголовное правосудие похоже на придаток к обвинению. Это — позор.
Еще позор — наши тюрьмы сделаны для пыток и мучений, не для сохранения человеческого достоинства и дальнейшей реабилитации.
В 2010 году в России утвердили Концепцию развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. Авторы документа предполагали, что если в тюрьмах ввести социальную и психологическую работу, это сократит число рецидивов. На программу начали выделять средства, и к 2015 году ФСИН занял 6-е место в государственном бюджете: ведомство получало 266 миллиардов рублей — в шесть раз больше, чем в 2003 году. И все же руководство отказалось следовать «Концепции», сославшись на нехватку денег. С 2017 года финансирование пенитенциарной системы начали сокращать, при этом расходы на содержание заключенных в России — из самых низких в Европе.
Каждый пятый заключенный в России страдает тяжелым хроническим заболеванием: ВИЧ, туберкулез, онкология или болезни сердечно-сосудистой системы. В 2016 году за решеткой умерло 3,5 тысячи человек. Это самый высокий уровень смертности среди заключенных в Европе. На наши тюрьмы приходится две трети всех тюремных смертей континента, а наши судьи не учитывают состояние здоровья обвиняемых, вынося приговоры.
— Условия содержания тоже порождают рецидив: над человеком издеваются, его права не защищают, ему говорят соблюдать закон, но сами сотрудники не соблюдают его, — говорит правозащитник Андрей Бабушкин. — Это провоцирует людей на правовой нигилизм. Условия содержания в целом улучшаются, но очень медленно.
После освобождения каждый заключенный получает на руки меньше тысячи рублей подъемных. Многие эксперты считают, что это один из факторов, приводящих к рецидивам. Вышедшему на свободу человеку не на что начинать новую жизнь, к тому же ему совсем не просто найти работу. В 2017 году Совет по правам человека предложил увеличить пособие хотя бы до трех тысяч рублей. Звучала идея финансово поддерживать бывших заключенных полгода после освобождения, в общей сложности выплачивая 24 тысячи рублей за 6 месяцев. Авторы проекта говорят, что уже эта сумма поможет сократить число рецидивов на 10 процентов.
Что дальше: пробация и медиация
Ну а чтобы не потерять хорошие тренды, нужно идти дальше. Что в пенитенциарной системе означает — вводить систему пробации. Это вот что: вместо того чтобы отправлять человека в тюрьму, его передают под шефство чиновника, который присматривает за его поведением. Человек остается на свободе, но получает набор условий: не совершать новых преступлений, пройти курс лечения, пойти учиться. Он не может уехать куда вздумается, ему могут запретить куда-то ходить или с кем-то встречаться. Он должен приходить отмечаться, и чиновник службы пробации может без предупреждения заглянуть к нему домой. Пробацию назначают за совершенно разные преступления, кроме самых тяжких.
— Чем выше количество людей с условным наказанием, тем меньше рецидивная преступность, — объясняет Людмила Альперн. — Единственный способ снижения уровня тюремного населения и криминальности как таковой — уход от лишения свободы.
Следующий шаг — медиация, досудебное улаживание конфликтов. В конфликт двух сторон включается третья, незаинтересованная сторона, медиатор. В Норвегии или Финляндии это огромное движение, это очень популярно. Медиаторами становятся люди совершенно разных профессий. Через медиацию проходят все несовершеннолетние.
Яков Гилинский побывал во многих странах, и везде он первым делом шел в тюрьму.
— В Турку в Финляндии начальник тюрьмы мне говорит: «Вы знаете, для того, чтобы у заключенных сохранялось чувство собственного достоинства, мы ввели новое правило! Мы каждому заключенному даем ключ от камеры. Чтоб он, уходя, мог закрыть свою камеру, свою квартиру, так сказать, а возвращаясь — открыть!» Это, конечно, не исключает контроля и того, что у нас называется шмоном. Но психологически это повышает чувство собственного достоинства, — рассказывает Яков Гилинский.
Человечное отношение к заключенным дает плоды: на родине Нильса Кристи, в Норвегии, только пятая часть вышедших заключенных возвращается за решетку. Соседняя Швеция закрыла полсотни тюрем — на десять миллионов человек населения осталось 4,5 тысячи осужденных.
И вот — один из аргументов, почему следует думать, что у нас может все получиться. У нас был свой Нильс Кристи. Валерий Абрамкин.